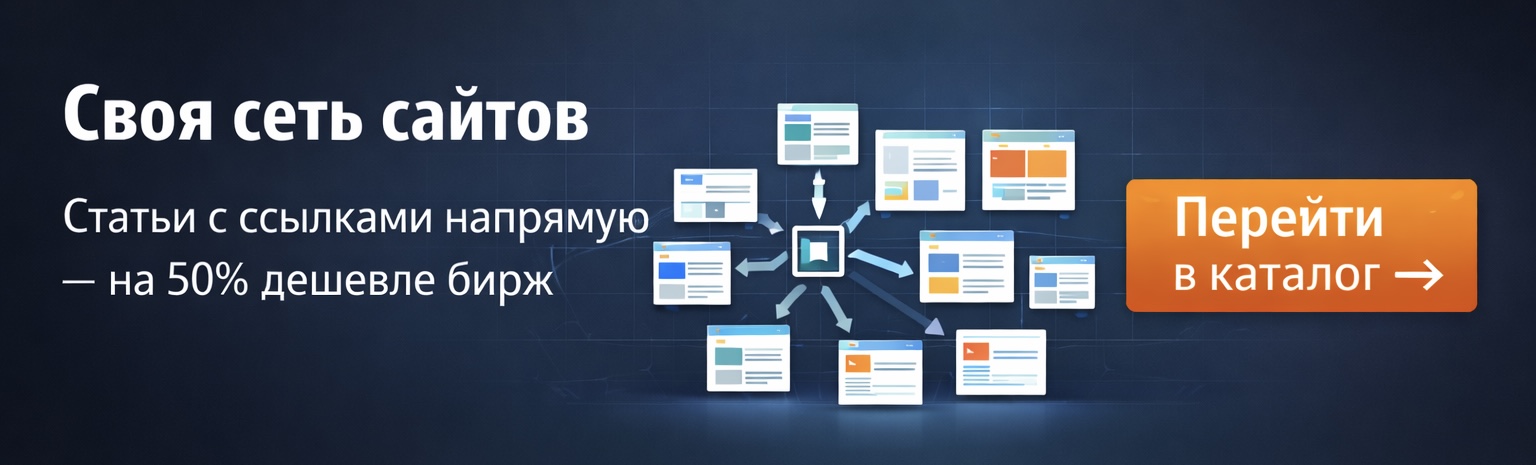Русские искры мобильного пути
Я работаю с радиосетями тридцать лет, потому вижу глубину отечественного вклада в мобильную телефонию сигнальными графиками, а не патриотическими лозунгами. Предлагаю прогуляться по ключевым вехам, где кириллица делила осциллограмму с латиницей.

Александр Попов создал радиоприёмник, его искровой передатчик во время флота упражнялся с плавучими станциями — прототип подвижного абонента. Уже там просматривалась идея пакетирования эфира: короткие порции кода, вместо непрерывного канала.
Радио и бронепоезд
В двадцатых инженер Добровольский смонтировал телефон на базе радиостанции 4ЖА, прибор крепился в вагоне. Связь удерживала голову поезда в момент разгрузки угля. Мобильность выглядела как катушка индуктивности в кожухе.
Летом пятьдесят седьмого года Леонид Куприянович показал «ЛК-1» — трубку массой три килограмма, дальность тридцать километров. Я архивировал его схемы: анодное питание двадцать шесть вольт, супергетеродин на лампах 1Ж29Б, частота 150 МГц. Ни одной лишней радиолампы, каждая — как стоик в морозильнике.
Через два года в очереди за хлебом автор того же отдела держал уже «Тайфун» весом полкилограмма. Литий-никель сидел в свинцовом костюме, но портативная антенно-фидерная система «шуруп» решала задачу изоляции. Реактивность ушла, Q-фактор поднялся.
Стандарты цифровой эры
Между восьмидесятым и девяностым московские специалисты из НИИ и Красной Пахры чертили доклады по частотно-кодовой диверсификации. Из набросков родился стандарт «Алтай-М», в параллель северяне из Ленинградского ЛКВВИА вычисляли динамику дуплекса, выводя синтезатор на кварце 12,5 кГц. Американский AMPS получил мировую сцену, однако его модель я читаю словно перевод русской рукописи: те же секторы, тот же алгоритм хэндовера с таймером Т3212.
Переход к цифре расчехлил математику. Ленинградский профессор Кочкин ввёл полифазную модуляцию с корнем Найквиста, снижая межсимвольное влияние. Его формулы лежат в кармане моего смартфона — именно они фильтруют шумы в канале E-UTRA.
Силикон и кириллица
Середина девяностых. В Зеленограде включён первый CMOS-чип RF900 внутри корпуса QFN. Местные литографы применили шаблон Штрассенмайер-4: десять масок, минимальный топологический шаг 0,6 мкм. В чип вложен эквидистантный трансивер — приёмопередатчик, сохраняющий одинаковый интервал между поднесущими, убирая фазовый джиттер.
Умальтовые вафли столичного полигона приветствовали кириллицу Unicode, когда разработчики ввели поддержку сообщений UCS-2. Иконки с буквой «Я» из семи-битного ряда сместили англоязычную монохромную сетку. Каждая точка матрицы была как зелёная искра под звездой Останкинской башни.
Часть текстовых примечаний к профилю NR написана моим коллегой Даниилом Шкляром, он задавал порог тишины −6 дБм, опираясь на сибирские измерения по каналу «Яз». Песец-модем, устойчивый к федингу, родился на том же стенде.
Сейчас я разворачиваю сеть 5,5G на Чукотке. Узел базируется на квантовом модеме с кодом LDPC-PX, автор патента — выпускник Бауманки Галяутдинов. Он взял локальный когерентный регистр, пересадил на графеновый транзистор, вывел энергопотребление ниже 0,3 пж на бит. Мороз не пугает графен, как ледяной дракон, дышащий плазмой.
Когда нажимаю на кнопку вызова, слышу в динамике тот же шорох, что ловил Куприянович ламповым приёмником. Сигнал летит сквозь метель, и в таком шорохе слышится бас Попова, смех Кочкина, шелест кремниевых дорожек Зеленограда. Русский след в мобильности шумит дальше, как фон космического микроволнового излучения.